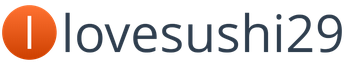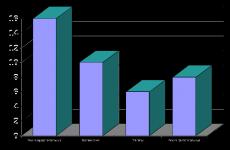Вдова писателя юрия нагибина рассказала про странный интерес ахмадулиной к женам бывшего мужа. Богом поцелованная белла ахмадулина Какой писатель женился на белле ахмадулиной
Белла Ахмадулина стала на восемь лет его пятой женой.
Зачем-то нас занесло в «Эрмитаж». Я дурачился и строил рожи среди картин, ваз, доспехов, гобеленов, от радости, что впервые могу не восхищаться, не изумляться, не подавляться назойливым преизбытком великих творений. То, что шло об руку со мной, живое, теплое, смеющееся над моим ломаньем совсем детским, тоненьким смехом, было настолько совершенней, бесконечней, увлекательней, что виртуозная мазня вокруг была мне, как здоровому лекарство.
Теперь я стал строителем. Я построил для нее Зимний дворец и всю набережную, Биржу и Кунсткамеру, Казанский собор и Гостиный двор, Петропавловскую крепость и Адмиралтейство, я так просто и сильно возвел здание Академии Наук, чтобы по утрам его гладкие стены принимали на себя всё солнце, я перекинул мосты через Неву и Фонтанку, поставил ростральные колонны и Александрийский столп, в расчете на его тяжесть ничем его не укрепив, чтобы только удивить ее; каждый парк я обнес решеткой, перебросил арки там, где дома мешали прорыву улиц к площадям. Я пренебрег только окраинами, потому что ей было не до них. Я так тщательно, кропотливо, широко и нежно создавал для нее город, что мне едва хватило ночи, и когда утром раздался стук в дверь, я открыл ей непроспанный, усталый, мятый, растрепанный, каким и бывает строитель, только что уложивший последние кирпичи.Напрасен был мой ночной труд. Город оказался нам почти не нужен. К чему пышные декорации, для нашего накала достаточно просто сукон. К чему был Медный всадник, коль она была и Петром, и конем, и змеей под его копытом.
Ты приедешь, обязательно приедешь, если я буду тих, нем и покорен твоему выбору, твоему решению. Ровно в полночь телефон потерял свою власть надо мной, ты была в пути.
Поначалу он называл её "Она".
Позже ты шутила, что из меня вышел бы отличный олень, так сильно во мне защитные инстинкты. Да ведь это другая сторона моей незащищенности, гибельности. Я бы десятки раз погиб, сорвался с края, если б не безотчетно сторожкое, что следит за мной. Но во мне не хватило этого оленьего, чтобы шарахнуться от тебя...Видит Бог, не я это затеял. Она обрушилась на меня, как судьба.
Я долго оставался беспечен. Мне казалось, что тут-то я хорошо защищен. Уже была близость, милая и неловкая, были слова, трогающие и чуть смешные,- не мог же я всерьез пребывать в образе седого, усталого красавца,- были стихи, трогающие сильнее слов, и не смешные, потому что в них я отчетливо сознавал свою условность; было то, что я понял лишь потом,- стремительно и неудержимо надвигающийся мир другого человека, и я был так же беспомощен перед этим миром, как обитатели Курильского островка перед десятиметровой волной, слизнувшей их вместе с островком.
Я понял, что негаданное свершилось, лишь когда она запрыгала передо мной моим черным придурком-псом с мохнатой мордой и шерстью, как пальмовый войлок; когда она заговорила со мной тихим, загробным голосом моего шофера; когда кофе и поджаренный хлеб оказались с привкусом ее; когда лицо ее впечаталось во всё, что меня окружало.
Она воплотилась во всех мужчин и во всех животных, во все вещи и во все явления. Но, умница, она никогда не воплощалась в молодых женщин, поэтому я их словно и не видел. Я жил в мире, населенном добрыми мужчинами, прекрасными старухами, детьми и животными, чудесными вещами, в мире, достигшем совершенства восходов и закатов, рассветов и сумерек, дождей и снегопадов, и где не было ни одного юного женского лица. Я не удивлялся и не жалел об этом. Я жил в мире, бесконечно щедро и полно населенном одною ею. Я был схвачен, но поначалу еще барахтался, еще цеплялся за то единственное, что всегда мог противопоставить хаосу в себе и вне себя, за свой твердый рабочий распорядок. Но и это полетело к черту.
Потом стал звать Геллой. Гелла -- очаровательная ведьма из "Мастера и Маргариты" (получение разрешения к публикации романа Булгакова и непосредственно его публикация происходили в 1966-67 гг., а Геллой он стал её звать в 1962 г -- похоже, читал рукопись романа).
«Рухнула Гелла, завершив наш восьмилетний союз криками: «Паршивая советская сволочь!» – это обо мне. А ведь в тебе столько недостатков. Ты распутна, в двадцать два года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты слишком много пьешь и куришь до одури, ты лишена каких бы то ни было сдерживающих начал, и не знаешь, что значит добровольно наложить на себя запрет, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать, ты вызывающе беспечна в своих делах, надменна, физически нестыдлива, распущена в словах и жестах.Самое же скверное в тебе: ты ядовито, невыносимо всепроникающа. Ты так мгновенно и так полно проникла во все поры нашего бытия и быта, в наши мелкие распри и в нашу большую любовь, в наш смертный страх друг за друга, в наше единство, способное противостоять даже чудовищному давлению времени, ты приняла нас со всем, даже с тем чуждым телом, что попало в нашу раковину и, обволакиваемое нашей защитной секрецией, сохранить инородность, не став жемчужиной.
Ты пролаза, ты и капкан. Ты всосала меня, как моллюск. Ты заставила меня любить в тебе то, что никогда не любят.
До чего же ты неразборчива! Тебе всё равно, чье принимать обличье. О, не дели участи обреченного, не смотри зелеными глазами моей матери, не лижи меня тонким Кузиным язычком, не всплывай нежными скулами со дна каждой рюмки, оставь зерно под моими окнами сойкам, синицам, снегирям, не вселяйся в людей и животных, изыди из окружающих меня вещей. Раз уж ты ушла, то уйди совсем.
Он выгнал её из дома за лейсбийский секс. Исходя из того, что чувствую читая его заметки, -- за то, что не смог принадлежать себе с ней.
А вообще, он был неплохим журналистом и сценаристом (ещё лучшим - педантом и трудоголиком). Но главным художественным произведением его жизни получился его личный, предельно откровенный дневник.
В эссе Дмитрия Быкова о Белле Ахмадулиной «Я проживу» есть такие строки:
… Подлили масла в огонь два её пишущих мужа - покойный Нагибин и здравствующий, дай Бог ему здоровья, Евтушенко. Нагибин успел перед смертью сдать в печать свой дневник, где вывел Беллу Ахатовну под неслучайным псевдонимом Гелла, и мы узнали о перипетиях их бурного романа. В свою очередь Евтушенко поведал о первом браке Б. А. - браке с собою - и о том, как эта во всех отношениях утончённая красавица энергично морила клопов. И хотя в дневнике Нагибина полно жутких, запредельно откровенных подробностей, а в романе Евтушенко «Не умирай прежде смерти» - масса восторженных эпитетов и сплошное прокламированное преклонение, разница в масштабах личностей и дарований даёт себя знать: пьяная, полубезумная, поневоле порочная Гелла у Нагибина - неотразимо привлекательна, даже когда невыносима, а эфирная Белла у Евтушенко слащава и пошла до полной неузнаваемости. Любовь, даже оскорблённая, даже переродившаяся в ненависть, всё же даёт сто очков вперёд самому искреннему самолюбованию…Во всей этой истории мне симпатичнее видится его шестая жена -- Алла Нагибина, с которой прожил свои последние 26 лет жизни:
Я не вправе судить отношения Юры с другими женщинами, особенно с Беллой. Я вышла замуж за человека с прошлым. И приняла его вместе с миром его страстей. Каждая женщина - это часть его жизни. Он любил - его любили. Что было, то было…
… Белла - совершенно гениальный человек, прекрасная поэтесса. Отношения Юры и Беллы касались только их двоих. В дневнике Юра написал об их любви замечательные строки. В Америке в «Русском слове» я напечатала этот кусок из его дневника. Это, может быть, одна из лучших страниц прозы о любви в русской литературе. Бесконечно и с восторгом перечитываю эти строки о великом счастье любить. Двое красивых, талантливых, гордых встретились и полюбили - это же чудо. Я всегда уважала искренние чувства двоих…
История никогда не повторяется. И, тем не менее, её отдельные элементы повторяются постоянно. И мы в ней.
Сейчас зверская тоска о Ленинграде. Без конца в башке маячит: Петропавловская крепость, набережная Невы, въезд на Кировский проспект, арка со стороны Дворцовой площади, решетка Летнего сада. Пишу это просто от удовольствия повторять эти названия. А мог бы я по-настоящему написать о Ленинграде? Думаю, нет. Те несколько довольно общих строк, что я некогда написал, обладали чем-то. Но я слишком растворяюсь в ленинградской жизни, чтобы писать о ней. Тут нужен взгляд немножко со стороны, больше спокойствия и меньше обалделого счастья.Я долго путал свою влюбленность в Ленинград с влюбленностью в ленинградских женщин.
Отвратительно, что «ждут указаний» для продолжения жизни духа. Сейчас всё духовное выключили, как электричество в пустой комнате. Мы живем без литературы, без искусства, без цели и без... Президента. И никого это всерьез не волнует, особенно - последнее. Можно отменить всю систему государства, оставив только диктатора и охрану, ничего не изменится. Можно закрыть все газеты, журналы, издательства, музеи, театры, кино, оставив какой-нибудь информационный бюллетень и телевизор, чтобы рабы не слонялись без дела, гремя цепями. И конечно, должна быть водка, много дешевой водки.
Людей, особенно близких, теряешь обычно на земле, а не с их уходом в мир иной. Бывают, конечно, исключения, но редко. Коса, отсекающая близких и нужных, куда чаще в руках у жизни, а не у смерти.
Январь 31, 2017 Нет комментариев
Уникальный и узнаваемый лирический стиль в поэзии стал причиной того, что Белла Ахатовна Ахмадулина - ее биография, личная жизнь, дети и мужья были отличной темой для обсуждения среди поклонников творчества столь многогранной личности, которая, успела вписать свое имя в историю отечественной литературы в качестве одной из величайших российских поэтесс двадцатого века!
Белла Ахатовна появилась на свет в 1937 году в Москве. В жилах поэтессы течет горячая татарская кровь отца, а страсть и своеобразный стиль изложения своих мыслей на бумаге обусловлена итальянскими корнями по материнской стороне. Уникальный и узнаваемый стиль написания стихотворений начал формироваться тогда, когда девочке исполнилось 15 лет: с первой публикации стихов молодой поэтессы ей предрекли светлое будущее в мире поэзии.
Талант писательницы позволил без проблем поступить и с отличием закончить Литературный институт. В то же время стихи, написанные автором во времена студенческой юности, успели стать классикой российской литературы. Спустя два десятилетия, один из лучших стихов писательницы был положен на музыку. Чуть позже стал одной из главных музыкальных тем в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!».
В жизни поэтессы было много мужчин. Вспоминая о жизни с писательницей, первый муж Беллы Ахмадулиной Евгений Евтушенко отмечает, что первые годы семейной жизни были настоящей феерией: пара не разлучалась ни на секунду, даруя друг другу счастливые моменты. При этом стоит отметить, что Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко - их отношения, дети и причина развода являются отличным поводом для обсуждения и по сегодняшний день. Все дело в том, что не считая себя готовым к отцовским обязательствам, Евгений уговорил писательницу сделать аборт, о чем в будущем сильно пожалел. Именно этот факт из биографии писательницы послужил поводом для разрыва отношений.

Спустя несколько месяцев после развода стало известно, что Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина съехались. Но Вознесенский всегда отмечал, что девушка была для него ничем иным, как хорошим другом. Второй брак поэтессы продлился более 7 лет: избранником писательницы стал Юрий Нагибин. В свое время, Белла Ахмадулина и Юрий Нагибин - их личная жизнь и причина развода вызвали широкий резонанс в общественности, поскольку эта пара представлялась одним из самых талантливых писательских тандемов 60-х годов. Казалось, что в семье царит полнейшая идиллия. В реальности же, постоянные ссоры и конфликты полностью разрушили семейное счастье. Последней каплей в переполненной чаше терпения стали смелые сексуальные эксперименты Беллы Ахмадулиной , являющейся сторонницей нетрадиционного подхода к половым отношениям.
Шокированная вполне логическим решением поэта о разводе, женщина предпринимала попытки вернуть возлюбленного, усыновив девочку Аню, посчитав, что это даст новый импульс к угасающей любви. После двух неудачных последующих браков, Белла Ахмадулина и её дочери Анна и Елизавета Кулиева полностью прервыают общение: Аня, узнав о факте оформления опеки, затаила злость на мать. Лиза же, являясь законной дочерью Кайсына Кулиева, предпочла встать на сторону своего отца.
За несколько лет до трагической смерти, в результате тяжелой болезни известная русская поэтесса ослепла. В начале 2010 года, прямо в карете скорой помощи, сердце Беллы Ахатовны остановилось. Последний муж писательницы отмечал, что чуя близкую кончину, писательница хотела наладить общение с дочерьми, но сделать это, к превеликому сожалению, ей так и не удалось…
На днях вдова известного писателя Юрия Нагибина, которая долгое время жила в Америке и лишь совсем недавно вернулась в Россию, рассказала немало интересных историй о Белле Ахмадулиной. Словам Аллы Григорьевны Нагибиной можно доверять, ведь знаменитая поэтесса была когда-то пятой женой Юрия Нагибина.
Сейчас Алла Нагибина живет в загородном доме подмосковного поселка Красная Пахра. Этот дом построил ее бывший муж и прожил в нем 30 лет после своего шестого брака на ленинградке Алле Григорьевне. Именно здесь вдова знаменитого писателя встретилась с журналистом «Собеседника» и, в окружении резной мебели, антиквариата и дорогих картин, рассказала ему тайну развода своего мужа с Беллой Ахмадулиной.
По словам вдовы, даже после развода Ахмадулина вместе с Евтушенко, Рождественским, Аксеновым, Окуджавой и многими другими приезжали в этот дом на Пасху и Рождество. Это сейчас этих людей считают легендами, а тогда они были простыми людьми, между которыми довольно часто вспыхивали ссоры.
Началось все в 1967 году, когда Юрий Нагибин принял неожиданное решение расстаться со своей супругой Беллой Ахмадулиной. Поэтесса не хотела уходить от писателя, но он твердо заявил о том, что жить он с ней больше не будет.
Причина развода, по словам вдовы писателя, описана писателем Аксеновым в одной из сцен романа «Таинственная страсть» - супруг застает свою жену в объятиях двух других женщин на их семейном ложе. После этого герой романа просто выкинул жену с ее любовницами и вещами за порог своей квартиры.
Вдова писателя утверждает, что именно так все было и в реальной жизни, а одной любовниц Ахмадулиной была Галина Сокол, которая позже, стала супругой Евгения Евтушенко. Об этом же написал и сам Аксенов в предисловии к своему роману.
Белла Ахмадулина долго надеялась вернуться к Юрию Нагибину, поскольку тот для своего времени жил очень обеспеченно. У писателя была дача, машина. Он отлично одевался, получал большие гонорары за киносценарии и часто бывал заграницей.
Поэтому, чтобы вернуть мужа Белла Ахмадулина вместе Галей Сокол разработали целый план - они пошли в детдом, где работала известная им директриса, и та без всяких документов «выдала» подругам по ребенку. Галине достался мальчик, а Ахмадулиной девочка.
В итоге, надеясь на то, что Юрий Нагибин вернется к ней, Белла Ахмадулина дала дочке Анне свою фамилию и отчество Юрьевна. Однако этот поступок, по словам Аллы Нагибиной, не тронул ее покойного ныне супруга - к поэтессе он так и не вернулся.
Возможно, произошло это из-за того, что писатель не любил маленьких детей - он просто не понимал, как можно работать, если в доме плачут дети. Ни одна из его шести жен так и не смогла уговорить его завести ребенка. Поэтому и Белле Ахмадулиной писатель, которому к тому времени было уже 50 лет, заявил, что даже ради этой девочки он к ней не вернется.
После этого разговора Белла Ахмадулина вышла замуж за сына балкарского классика Кайсына Кулиева, который был моложе ее на 17 лет. А Юрий Нагибин, обеспечив бывшую жену квартирой, женился в шестой раз на Алле Григорьевне, с которой прожил около 30 лет. С бывшей женой общаться он не перестал - все-таки это была одна компания, но признавался своей последней супруге, что до нее вроде бы и не жил.
Ну, А Белла Ахмадулина после развода с Нагибиным начала сильно пить, хотя и до этого любила пропустить рюмку другую. С Эльдаром Кулиевым она долго не прожила, несмотря на то, что родила своему новому мужу дочку Елизавету. Следующим супругом Беллы Ахмадулиной стал художник Борис Мессерер, который «понял» ее мечущуюся душу и спокойно относился к ее привычке злоупотреблять спиртными напитками.
Однако ради этого брака Белла Ахмадулина бросила своих дочерей Анну и Елизавету на свою мать, которая вместе с детьми и домработницей жила в квартире, подаренной Юрием Нагибиным. В воспитании своих дочек поэтесса больше не участвовала. Возможно поэтому, как только ее дочь Анна, будучи уже взрослой, узнала, что она приемная, то сразу ушла от матери и теперь крайне неохотно общается с журналистами - наверно просто не хочет вспоминать тяжелое детство.
Кстати, новую жену Юрия Нагибина в его компании так и не приняли. Все осуждали писателя за то, что он выгнал Беллу Ахмадулину на улицу, а его новую жену - за то, что она заняла место великой поэтессы, стихи которой мужчины слушали, раскрыв рты, и многое ей за это прощали.
Нынешнему читателю проза Нагибина — особенно та, которую он печатал в семидесятые и первой половине восьмидесятых, — наверняка покажется моветонной, дурновкусной, пафосной, местами и неумной, особенно на фоне того, что тоже принадлежало к этой эпохе и выжило: Катаев, Трифонов, Аксенов, Искандер, Валерий Попов, даже и Георгий Семенов, пожалуй, — писали лучше. Перечитывая сегодня его рассказы времен так называемой зрелости — «Пик удачи», или невыносимые биографические сочинения о Тютчеве, Рахманинове, протопопе Аввакуме, или даже «Терпение», о котором речь впереди, — сам я совершенно не понимаю, как все это могло нравиться и широко обсуждаться: разве что на безрыбье? — но толстожурнальное безрыбье было по нынешним временам весьма урожайным. Видимо, дело было в ином: да, проблемы со вкусом у Нагибина были, но их русский читатель особенно склонен прощать — за правду, или за темперамент, или за веяние какой-то другой жизни, какое ощущаешь при чтении. В Нагибине, даже когда он писал напыщенные банальности или описывал тогдашнюю молодежь, которой не знал вовсе, — ощущалось почти всегда веяние настоящей страсти, принадлежность к настоящей культуре, трагическое — столь редкое на фоне тогдашнего бодрячества — мироощущение, серьезное отношение к жизни, к женщине, к Родине, к старости. Короче, это была плохая проза настоящего писателя, а это лучше, интереснее, чем старательная, даже и ровная проза человека малоодаренного. Я мог бы назвать имена, но не буду — что зря обижать мертвых, а в особенности живых? И поэтому Нагибина читали. И каждая его книга была событием. И фильмы по нему ставили, чаще всего плохие, но запоминавшиеся. И летописцем быта тогдашней интеллигенции с ее наивными, невежественными исканиями, вкусом, испорченным советской массовой продукцией разных жанров, и сексуальными фрустрациями — он остался: такие его рассказы, как «Срочно требуются седые волосы», или «Берендеев лес», или «Чужая», — живут. По крайней мере их читают те, кому вообще интересно что-то, кроме фэнтези.
Он написал чрезвычайно много ерунды и советской халтуры — почти все, что он печатал до «Павлика» и «Чистых прудов» (соответственно 1960 и 1962 год), было на уровне дежурного соцреализма. Резко выделялись рассказы о детях (но не для детей — поскольку Нагибин полагал внутренний мир ребенка трагичным, драматичным, а подростковую жизнь считал полной самых серьезных испытаний): «Зимний дуб», несколько испорченный сусальностью, «Старая черепаха» (это, кажется, лучшая новелла из ранних), «Комаров», из которого Леонид Носырев сделал поистине гениальный мультфильм. Потом он какое-то время ходил в успешных, много ездящих за рубеж советских сценаристах, работал с Калатозовым («Красная палатка») и Куросавой («Дерсу Узала»), а самым известным его произведением стал фильм 1964 года «Председатель», лучшая роль и Ленинская премия Михаила Ульянова. Надеясь повторить успех, режиссер Алексей Салтыков взялся за фильм «Директор» — на съемках которого в 1965 году погиб Евгений Урбанский, словно обозначив конец кинематографа оттепели. «Директора» в конце концов поставили (с Губенко), но это уже было не то.
Тесен мир: Евтушенко, друг Урбанского, был первым мужем Ахмадулиной, которая стала потом женой Нагибина и, вероятно, главной женщиной в его жизни. Она написала плохой, наивный, очаровательный сценарий по нагибинским «Чистым прудам» и сама читала там собственные стихи, очень слабые, а поставил эту картину, такую же наивную, плохую и очаровательную, режиссер Алексей Сахаров, прославившийся «Коллегами» по Аксенову; вторым режиссером на этой картине был Левон Кочарян, ближайший друг Высоцкого, снявший под художественным руководством Тарковского фильм «Один шанс из тысячи», единственную свою картину. Тесен был тот мир, все друг друга экранизировали, снимали в главных ролях, спали друг с другом (одной из причин развода Нагибина с Ахмадулиной было то, что на съемках фильма «Живет такой парень», где она сыграла молодую журналистку, Шукшин «воспользовался нашей семьей не только творчески», как деликатно писал Нагибин потом; оскорбило его не то, что Ахмадулина сдалась на ухаживания Шукшина, — но то, что Шукшин был антисемитом, чему Нагибин был свидетелем во время общих пьянок).
Тесный был мир, во многом отвратительный, во многом мучительный, но необычайно плодотворный и все-таки живший серьезными проблемами, великими замыслами; было что вспомнить. Самое интересное, однако, что о шестидесятых Нагибин не написал почти ничего, и уж точно ничего хорошего: лучшее, что он легально опубликовал, — «Чистые пруды» и «В те юные годы», про конец тридцатых и начало сороковых, да те самые рассказы семидесятых: про предвоенную молодежь — и интеллигенцию застоя. У него хорошо получалось только про тех, кого корежило страшное давление; летописцем этого давления он и был. А люди шестидесятых ему неинтересны: им слишком многое можно.
Это уж потом, как в проигрышах иных советских песен музыка вырывается из-под слов, — из-под такого же страшного давления вырвались три главные его повести: «Дафнис и Хлоя» — о первом его браке с Машей Асмус, которую в повести зовут Даша; «Встань и иди» (об отце) и «Моя золотая теща» (о безумной страсти к теще, настигшей его во втором браке). И, конечно, «Дневник» — подготовленный к печати еще при жизни: сдал в издательство, а на другой день умер. В саду, во сне. Все главное в жизни было закончено.
Меня спросят: а как же тот самый «Председатель» — разве это не лучший его сценарий и не лучшее вообще произведение о людях колхозной деревни времен оттепели, когда еще можно было сказать часть правды? Отвечу — не для того, конечно, чтобы в очередной раз кого-то эпатировать: «Председатель» — образцовое советское произведение, идеально приспособленное к эпохе. Тут и антицерковный эпизод — со слепцами, поющими псалмы, причем псалмы прекрасные, настоящие, а слепцы ненастоящие, председатель их разоблачает в духе хрущевской борьбы со всеми культами, включая церковный; тут и умеренная, строго дозированная правда о степени обнищания и озлобленности в послевоенной деревне; и стандартный советский сюжет — о пассионарии, зажигающем толпу и увлекающем ее на трудовые подвиги; все такие сюжеты — о людях, умудряющихся героически трудиться не благодаря, а вопреки партийному руководству и иным объективным обстоятельствам. В «Председателе» отчетливо видно, что коллективный труд возможен только благодаря героизму и лидерским качествам центрального персонажа — и вопреки идиотскому устройству советского сельского хозяйства. До настоящей трагедии это кино не дотягивает, поскольку изготовлено в строгом соответствии с советским каноном; сценарий именно мастеровит — но не более того. И все нагибинские сценарии образцово иллюстративны, они всегда соответствуют лозунгам момента и приоткрывают правду — и социальную, и психологическую, — ровно настолько, чтобы картина получила первую категорию и в идеале поехала на фестиваль.
Это же касается почти всей нагибинской прозы до начала шестидесятых, то есть до момента, когда он на волне оттепели прорвался к своему заветному материалу, к мальчикам и девочкам двух предвоенных лет. В этой прозе выделяются силой и точностью уже упомянутые детские рассказы — прежде всего «Старая черепаха», где мальчик днем продает заглавную героиню, черепаху Машку, чтобы купить двух молоденьких симпатичных черепашат, а ночью жестоко раскаивается. Это сильно написано, до слез: «Почему не сказал он тому человеку, что на ночь Машку надо прятать в темноту? А теперь, наверное, зеленый свет месяца бьет в ее старые глаза. И еще не сказал он, что к зиме ей надо устроить пещерку из ватного одеяла, иначе она проснется от своей зимней спячки, как это случилось в первый год ее жизни у них, и тогда она может умереть, потому что в пору спячки черепахи не принимают пищи. Он даже не объяснил толком, чем следует кормить Машку, ведь она такая разборчивая... Конечно, он может завтра же пойти и все сказать, но захотят ли новые хозяева столько возиться со старой Машкой? Правда, тот человек, кажется, очень добрый, утешал себя Вася, наверное, и сын у него такой же добрый. Но успокоение не приходило. Тогда он натянул одеяло на голову, чтобы скорее уснуть, но перед ним вновь возникли голые, немигающие птичьи глаза Машки, в которых отражался беспощадный зеленый свет месяца».
И он, короче, взял двух новых черепашек, таких милых, и пошел менять их на старую черепаху — даром что «не было на свете более ненужного существа, чем Машка». И мать, почувствовав, что он проснулся, следует за ним по ночной дороге в почтительном отдалении (там еще чудесно описан непривычный ночной мир, в котором летает бражник мертвая голова, — Довольно страшный, но и смерть отступает перед храбрецом, когда он идет делать доброе дело).
И, однако, все это еще хороший соцреализм, а вот «В те юные годы», «Павлик» и рассказы про Чистые пруды — уже что-то другое, потому что автор имеет дело с небывалым поколением, возмужавшим перед войной. До сих пор не понимаю, откуда это поколение взялось в самое страшное, самое отвратительное советское время. Другого такого чуда в советской истории не было. Они к пятнадцати годам были зрелыми мужчинами и умными, сострадательными женщинами; они воспитывали себя жестоко и, пожалуй, авторитарно — стоит вспомнить эксперименты с хождением по карнизу, которым подвергал товарищей Лев Федотов, описанный у Трифонова в «Доме на набережной» как Лева Карась. У них считалось нормальным самостоятельно изучать три языка, знать наизусть оперы, становиться королями московских катков, поражать античным телосложением публику на коктебельских пляжах — в романе Бондарева «Выбор», очень неплохом местами, именно таков был Илья Рамзин, и дочь главного героя смотрела на их с отцом молодые фотографии, выдыхая: «Полубоги! А наши-то...». Да, такого урожая больше не было. Страшно сказать, но в нынешних двадцатилетних я узнаю некоторые черты тех: они такие же стремительные, умные, гармоничные — сверхчеловеки, одним словом. Почему страшно? Да потому, что эти были такими задуманы, чтобы выиграть войну, поднять страну после нее, устроить тут оттепель и создать великую культуру; они бы и перестройку вытянули — но были уже стары и малочисленны, потому и не вышло никакой перестройки.
И вот об этом фантастическом поколении, примерно с 1919 по 1925 годы рождения — от Солженицына до Коржавина, от Галича до Окуджавы, от Самойлова до Трифонова — и писали всю жизнь Нагибин, Бондарев, Слуцкий; это они — «ифлийцы» — создали новую советскую поэзию, это они — комиссарские дети — переосмыслили советскую историю, все поняв уже после краха первой оттепели. Шестидесятники были на их фоне и наивнее, и слабее — не зря Ким хоть и шутя, но в чем-то очень серьезно уверял Самойлова, что, мол, они-то, дети войны, не богатыри, а богатыри были на пять лет старше. Нагибин сумел написать об этих юношах и девушках лучше всех — потому, вероятно, что, как писал Бабель, «был страстен, а страсть движет мирами». Да, в формировании этой генерации великую роль играло то, что после комиссарской аскезы предыдущего поколения они были по-античному свободны в этой сфере: не то чтобы развратны, нет, — но в раннем их взрослении огромную роль играли влюбленности, страсти, бегства из семей. Всеволод Багрицкий, который талантом почти не уступал отцу, в восемнадцать лет стал мужем семнадцатилетней Лены Боннэр; Нагибин в девятнадцать встретил — и увел у жениха — Машу Асмус; Ося Роскин — сын знаменитого художника Владимира Роскина, плакатиста, соратника Маяковского — в двадцать лет был мудрецом, разбиравшимся в тонкостях мужской и женской психологии лучше иного сорокалетнего. Самая, пожалуй, неотразимая и трагическая девушка этого поколения — Лия Канторович, о которой так удивительно и точно написал Галич (ей посвящена глава в «Генеральной репетиции» и песня «Номера»). Она погибла на Западном фронте 20 августа 1941 года. Галич тоже был близким другом Нагибина, и лучший мемуарный очерк о нем написал именно Нагибин — там Галич живой. Вот скажут: ведь в этом очерке много довольно жестоких слов о Галиче, и Окуджаву Нагибин любил больше, а Галич у него все-таки барин... Да, барин, и все-таки истинная страсть в этом очерке есть, и восторг тоже истинный — вот ведь, талант сломал человеку судьбу, и человек не стал цепляться за благополучие, позволил таланту вытянуть и выпрямить себя, и погубить в конце концов! Он осуществился — какая гордость, какая радость всему вопреки! Так же Валерий Фрид, узнав о самоубийстве ближайшего и любимейшего друга, многолетнего соавтора Юлия Дунского (он был смертельно болен, терял подвижность и хотел уйти сам, пока мог), воскликнул: «Молодец! Молодец Юлька!» Да, вот они были такие.
Вся Москва, весь Ленинград, все двадцатилетние, пишущие, снимающие, рисующие и просто яркие, как нагибинский Павлик, — друг друга знали и друг к другу тянулись: примета гениев. И вот об этом Нагибин написал: о волшебных девочках с Чистопрудного катка, о железных мальчиках, подвергающих себя и друг друга почти смертельным испытаниям, о коктебельских влюбленностях, безумных клятвах, о страшном накале чувств — словно в предвидении вечной разлуки... Те чувства и те клятвы оказались живучее всех других, поздних -- и об этом Нагибин написал рассказ «Терпение», которому так досталось в советской критике. Критика была по-настоящему проработочной, в лучших традициях. А ведь рассказ- то, на сегодняшний вкус, действительно плохой — но сильный. Так бывает. Все недоумевали: как это женщина пятидесяти лет, встретив на Валааме (у Нагибина — Богояр) пропавшего без вести калеку, сразу отдается ему в лесу, на поляне? Но для этих людей возраста не было, и для Нагибина тут тоже не было ничего необычного. Всю жизнь любила, и вот — нашла. Чтобы немедленно потерять, уже навсегда. Нагибин вообще, кажется, не особенно зависел от возраста — он и в сорок, и в пятьдесят так же готов был откликнуться на обещание любви, как в двадцать. Самый бурный, вероятно, и самый трагический роман пережил он, когда встретился с Беллой Ахмадулиной, к тому моменту только что пережившей разрыв с Евтушенко. И вот что поразительно: в дневниках Нагибина Белла, которую там зовут Гелла, и пьяна, и развратна, и безвольна, и фальшива, и что хотите — но какая она там опять-таки живая, какая неотразимая! А в воспоминаниях Евтушенко — в романе «Не умирай прежде смерти», например, — она идеализирована нещадно, и все-таки Нагибин со всей его злобой куда убедительней, куда, если можно так выразиться, влюбленней. Евтушенко достигает такого накала только в самых злых стихах, где адресат тоже угадывается — «А собственно, кто ты такая...».
Эрос, отчаянное влечение к миру, жажда не просто наблюдать, а обладать, азарт охотника, трубный олений зов — в этом весь Нагибин, и потому у него так хороши охотничьи рассказы. И так плохи попытки быть чистым лириком — он сразу впадал в сентиментальность, вторичность, начинал фальшивить... Вот «Дафнис и Хлоя» — где столько бесстыдных подробностей, злости, ревности, раздражения, отчаяния, где так мало прощения и умиления, — это проза; и свет первой любви — золотой и обжигающий, несмотря ни на что, — от этой книги исходит. Потому что у богов все божественно — и любовь, и похоть, и ярость.
Главным человеком в жизни Нагибина была мать, о которой он в «Дневнике» тоже написал с необыкновенной, непредставимой силой, обнародовав такие подробности и такие мысли, которых принято стыдиться даже наедине с собой: он не прощал ей слишком быстрой смены любовников, не прощал лжи об отце (о том, что настоящим его отцом был офицер, дворянин, Нагибин узнал лишь зрелым человеком, после тридцати, и написал о нем с той же любовью и беспощадностью в повести «Встань и иди»). И вместе с тем — ее волевое начало, столь разительное на фоне безвольных и малоодаренных мужчин, ее страстная и требовательная любовь, ее умение вовремя вмешаться — и вовремя не вмешиваться, чтобы дать сыну сделать собственный выбор, — все это его сформировало и оставалось святым, неприкосновенным; сам он мог и раздражаться, и негодовать — но другим не позволял сказать о матери ни единого скептического слова; он потерял мать, когда был уже не просто зрелым, а пожилым человеком — но никогда от этой травмы не оправился. И тут вот какой парадокс: самые мужественные, даже мачистские авторы в русской, да и в мировой литературе — Виктор Некрасов, Нагибин, его любимец и в некотором смысле двойник Ромен Гари — совершенно не боялись прослыть маменькиными сынками. Потому что эмоциональная грубость, нечистоплотность, неразборчивость — это как раз примета личностей низкоразвитых и слабых; Нагибин любил мать именно потому, что был человеком тончайшей душевной организации, и только такие люди умеют в критический момент взять на себя ответственность, поднять в атаку полк, ринуться на стычку с хамом. И Гари, и Некрасов, и Нагибин не прощали, когда им хамили, не допускали и мысли о том, чтобы унизиться, лезли в драку — но без истерики, спокойно, даже расчетливо. Это потому, что человек, умеющий творить и думать, не может быть эмоционально глух. И эта привязанность к сильной и требовательной женщине, которая в молодости не слишком баловала сына и вообще, кажется, не слишком много о нем думала, — значила для Нагибина больше, чем все его женщины; подозреваю, что только люди этого склада — люди, для которых мать всегда в жизни на первом месте, — способны по-настоящему чувствовать и боль, и уязвимость, и страсть. Фрейдисты тут наговорят ерунды про попытки заместить материнский образ бесчисленными женскими, про поиск «второй матери» в браке — но фрейдисты вообще мало понимают в высоких чувствах, они все стараются сделать низким, тем, в чем они разбираются (и разбираются, отдадим им должное, очень хорошо).
Самым «долгоиграющим» отчимом Нагибина был Яков Рыкачев — мужчина слабей и капризней матери, да вдобавок не самый одаренный писатель и очеркист; Нагибин все прощал за талант — но ничего не прощал за полуодаренность, вообще за половинчатость. Вот Галич — это да, ему многое можно, потому что есть в нем черты гения, а конформиста он как-то умудрился в себе убить, хоть это мало кому удавалось. Вот Платонов — которого Нагибин боготворил, отлично сознавая все его патологии, даже безумие в последние годы: это титан, и Нагибин счастлив, что знал его. А к большинству коллег он беспощаден — именно потому, что все у них наполовину; и сам Нагибин ни в чем не половинчат — у него были либо ослепительные удачи, либо такие же значительные, полновесные провалы; и некоторые его провалы запомнились лучше удач — потому что он в них честен, потому что он не бытовик, а романтик, и если жизнь иногда не дотягивает до этой романтики, в этом не Нагибин виноват. Удивительно, что зависти он не знал вообще. Впрочем, как сказала Мария Васильевна Розанова, «чтобы завидовать, я слишком уверена, что я лучше всех».
Следующая поразившая его в жизни среда — вторая после круга сверстников, одноклассников и однополчан — это московская, питерская, реже провинциальная интеллигенция семидесятых годов: после шестидесятых (которые его скорее раздражали той самой половинчатостью) наступили так называемые застойные, в которых, однако, лучше себя чувствовали «рыбы глубоководные», по выражению Тарковского. Здесь виднее было, кто чего стоит. Тут опять кипели подавленные страсти, от пустоты и однообразия затевались любовные многоугольники, возникала нездоровая, но крайне плодотворная подпольная среда — словом, советский серебряный век. Любопытно, что люди конца тридцатых такие, как Елена Боннэр, — в это время опять воспряли и стали знаком эпохи, ее символами: нужен был навык сопротивления, а у них закалка была соответствующая. Шестидесятники вписались, а вот первое поколение оттепели, как ни странно, сопротивлялось. Правильно и горько заметил Михаил Успенский: для советской власти обласканный ею поначалу Галич был чужой, а сразу принятый в штыки Высоцкий — свой.
Об интеллигенции семидесятых с ее запоями, страстями, романами, фальшью, ложью на каждом шагу, с ее похмельными раскаяниями, семейными сценами, тоской по недостижимой подлинности Нагибин написал десятка три не очень хороших, но очень сильных рассказов. Нагибин был плоть от плоти этих городских интеллигентов, он был не лучше их в каком-то смысле, вместе с ними уходил в запои и любовные страсти, и вместе с ними был придавлен временем, и вместе с ними не мог заглянуть за горизонт. Для нашего времени эта его проза драгоценна — ибо сейчас почти все то же самое, только интеллектуальный потенциал еще ниже. Хипстеры, увы, хоть и больше ездили, но меньше читали. Но о связи бытовых, семейных и интеллектуальных извращений с той самой социальной придавленностью, с эпохой, которая диктовала аморализм, требовала врать на каждом шагу и умудрялась изгадить все живое и непосредственное, — Нагибин оставил нам точнейший, убийственный репортаж. Вот Тендряков, о котором мы говорили несколько раньше (и которого Нагибин в своей манере обозвал в дневнике и талантливым, и самовлюбленным, и честным, и бестактным, и недалеким), ставил в это время неразрешимые моральные проблемы — и они действительно в тех условиях, в тех координатах неразрешимы, потому что сами условия уродливы, сами порождены болезнью и ложью. Герои Нагибина потому и не могут разобраться в себе и других, что живут в больное время, исповедуют больные ценности — и хотя это их не оправдывает, но многое объясняется именно патологической, искореженной средой. О том, как действует на человека эта среда с ее тройной моралью и подменой всех ценностей, о том, как сходят с ума, погрязают в неумелом разврате и спиваются без всякого удовольствия, — он рассказал с яростью и недоумением, без малейшей пощады. Вот почему его проза семидесятых сегодня так востребована — многие признавались, что вдруг стали читать Нагибина: в первую очередь, конечно, «Дневник», но и новеллистику. Ее как раз стали переиздавать — как и неизданные сценарии. Один из них, «Безлюбый», исключительно высокого качества: странно, что такие-то мощные вещи сам он считал проходными и не пробовал напечатать. Это об эсеровском подполье, о терроре. И драма там настоящая — не чета хрестоматийным конфликтам и цитатам, которыми обмениваются герои в его рассказах о русской литературе. Нечего стесняться, если умеешь писать только о страстях, нечего косить под «культуру и эскюсство», в конце концов, у Галича тоже самый малоудачный цикл — «Литераторские мостки». Эти люди умели говорить только о себе — но с настоящей ненавистью, и это лучше, чем писать о других с фальшивой любовью.
Нынче время Нагибина, и это хорошее время — по крайней мере для тех, кто до смерти устал от вранья и половинчатости; это еще вопрос, кто больше приблизил перемены: объективные обстоятельства или такие ненасытные преследователи истины, как он.
Личная жизнь этого любвеобильного писателя поражала бурной насыщенностью и вывертами.
Будучи жуиром и бонвианом Нагибин женился шесть раз, что по советским меркам явный перебор. И жен выбирал придирчиво, - дочка преподавателя Литинститута Асмуса, дочка директора автозавода Лихачева, эстрадная прима Ада Паратова… Пятой стала поэтесса Белла Ахмадулина.

Когда уже после смерти Нагибина страна прочитала его «Дневник», где перипетии пятого брака описаны смачно, Евгений Евтушенко попытался защитить Ахмадулину строчками:
Он любил тебя, мрачно ревнуя,
и, пером самолюбье скребя,
написал свою книгу больную,
где налгал на тебя и себя.
Однако, Нагибин не только не налгал, а даже и кое-что сгладил.
Первым мужем Ахмадулиной стал в 1957 году как раз самый популярный поэт эпохи Евгений Евтушенко.
Этот брак не задался, главным образом потому, что молодой и переживающий за карьеру поэт настоял на аборте, когда Белла забеременела.

В момент рушащегося брака в поле зрения поэтессы появился Юрий Нагибин. Пусть она годилась ему в дочери (17 лет разницы), плевать. О том, насколько внутренне свободного Юрия Марковича мало заботила реакция окружающих, свидетельствует следующий факт: придя к Евтушенко на день рождения, писатель набрался алкоголя и сделал Белле предложение руки и сердца, аттестуя именинника как человека ее недостойного. Евтушенко метнул в Нагибина его же подарком, - огромным тяжелым блюдом. Слава Богу, не попал.
Безусловно, Юрий любил Беллу. Невозможно душой нелюбящей записать в дневник такие вот слова:
«Ты пролаза, ты и капкан. Ты всосала меня, как моллюск. Ты заставила меня любить в тебе то, что никогда не любят. Как - то после попойки, когда мы жадно вливали в спалённое нутро боржом, пиво, рассол, мечтали о кислых щах, ты сказала с тем серьезно - лукавым выражением маленького татарчонка, которое возникает у тебя нежданно - негаданно:
- А мой желудочек чего - то хочет!.. - и со вздохом: - Сама не знаю чего, но так хочет, так хочет!..
И мне представился твой желудок, будто драгоценный, одушевленный ларец, ничего общего с нашими грубыми бурдюками для водки, пива, мяса. И я так полюбил эту скрытую жизнь в тебе! Что губы, глаза, ноги, волосы, шея, плечи! Я полюбил в тебе куда более интимное, нежное, скрытое от других: желудок, почки, печень, гортань, кровеносные сосуды, нервы. О легкие, как шелк, легкие моей любимой, рождающие в ней ее радостное дыхание, чистое после всех папирос, свежее после всех попоек!..»
Но будучи человеком умудренным Нагибин все видел, так сказать, в комплексе, стереоскопически.
Та же дневниковая запись:
«А ведь в тебе столько недостатков. Ты распутна, в двадцать два года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты слишком много пьешь и куришь до одури, ты лишена каких бы то ни было сдерживающих начал, и не знаешь, что значит добровольно наложить на себя запрет, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать, ты вызывающе беспечна в своих делах, надменна, физически нестыдлива, распущена в словах и жестах»
Ахмадулина и Нагибин расписались в 1959.

Тут же ярко выявились отрицательные привычки обоих. Творческая богема вообще любит насчет выпивки, но масштабы потребления писателя и поэтессы зашкаливали. Мама Нагибина горько сетовала насчет привычки супругов разгуливать по гостям: «Уезжают два красавца, приезжают две свиньи».
Кроме того, Белла была легкомысленна. В 1964 завела роман с Василием Шукшиным, который подарил ей эпизодическую роль в фильме «Живет такой парень». На премьере разразился скандал, описанный Нагибиным в повести «Тьма в конце туннеля».
«В Доме кино состоялась премьера фильма Виталия Шурпина «Такая вот жизнь», в котором Гелла играла небольшую, но важную роль журналистки. С этого блистательного дебюта началось головокружительное восхождение этого необыкновенного человека, равно талантливого во всех своих ипостасях: режиссера, писателя, актера. И был то, наверное, последний день бедности Шурпина, он не мог даже устроить положенного после премьеры банкета. Но чествование Шурпина все же состоялось, об этом позаботились мы с Геллой.
В конце хорошего вечера появился мой старый друг режиссер Шредель, он приехал из Ленинграда и остановился у нас. Он был в восторге от шурпинской картины и взволнованно говорил ему об этом. Вышли мы вместе, я был без машины, и мы пошли на стоянку такси. Геллу пошатывало, Шурпин печатал шаг по-солдатски, но был еще пьянее ее.
На стоянке грудилась толпа, пытающаяся стать очередью, но, поскольку она состояла в основном из киношников, порядок был невозможен. И все-таки джентльменство не вовсе угасло в косматых душах - при виде шатающейся Геллы толпа расступилась. Такси как раз подъехало, я распахнул дверцу, и Гелла рухнула на заднее сиденье. Я убрал ее ноги, чтобы сесть рядом, оставив переднее место Шределю. Но мы и оглянуться не успели, как рядом с шофером плюхнулся Шурпин.
- Вас отвезти? - спросил я, прикидывая, как бы сдвинуть Геллу, чтобы сзади поместился тучный Шредель.
- Куда еще везти? - слишком саркастично для пьяного спросил Шурпин. - Едем к вам.
- К нам нельзя. Гелле плохо. Праздник кончился.
- Жиду можно, а мне нельзя? - едко сказал дебютант о своем старшем собрате.
- Ну вот, - устало произнес Шредель, - я так и знал, что этим кончится.
И меня охватила тоска: вечно одно и то же. Какая во всем этом безнадега, невыносимая, рвотная духота! Еще не будучи знаком с Шурпиным, я прочел его рассказы - с подачи Геллы, - написал ему восторженное письмо и помог их напечатать. Мы устроили сегодня ему праздник, наговорили столько добрых слов (я еще не знал в тот момент, что он куда комплекснее обслужен нашей семьей), но вот подвернулась возможность - и полезла смрадная черная пена.
Я взял его за ворот, под коленки и вынул из машины».
 НА СЪЕМКАХ "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
НА СЪЕМКАХ "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
Брак с такими страстями обречен, ибо в семье хотя бы один должен придерживаться реальности. Пара часто разбегалась, и однажды перерыв в отношениях затянулся на год.
Терпения Нагибина хватило на восемь лет. Почему оно лопнуло стало известно недавно, когда шестая жена Юрия Марковича дала интервью ряду изданий. По ее словам Нагибин застал Ахмадулину в компании двух голых женщин, одна из которых жена Евтушенко Галина Сокол.
Как все-таки пряно и душисто переплелось все в том творческом аквариуме!
Развода Ахмадулина не хотела настолько, что решилась на поступок дикий, поэтический и глупый.
Вдова Нагибина рассказывала:
«Тогда Белла и Галя Сокол пошли в детский дом. У них там была знакомая директриса. И она без всяких документов Гальке отдала мальчика, а Белке – девочку. Ахмадулина дала дочке Анне свою фамилию, а отчество – Юрьевна. Она надеялась, что с ребенком Нагибин ее примет обратно. Но этого не произошло.
…Он сказал: «Даже ради него я жить с тобой не буду!» И никогда эту девочку не воспитывал»
На что рассчитывала женщина? За восемь лет она могла хотя бы понять, - с кем живет. Нагибин детей не переваривал, ни одна из шести жен не заставила его завести ребенка, а тут, нате пожалуйста.
Разрыв Нагибин переживал болезненно, что зафиксировано в дневнике.
Опять непозволительно долго не делал никаких записей, а ведь сколько всего было! Рухнула Гелла, завершив наш восьмилетний союз криками: «Паршивая советская сволочь!» это обо мне.
…Геллы нет, и не будет никогда, и не должно быть, ибо та Гелла давно исчезла, а эта, нынешняя, мне не нужна, враждебна, губительна. Но тонкая, детская шея, деликатная линия подбородка и бедное маленькое ухо с родинкой - как быть со всем этим? И голос незабываемый, и счастье совершенной речи, быть может, последней в нашем повальном безголосья - как быть со всем этим?
Завтра иду разводиться с Геллой. Получил стихи, написанные ею о нашем расставании. Стихи хорошие, грустные, очень естественные. Вот так и уместилась жизнь между двумя стихотворениями: «В рубашке белой и стерильной» и «Прощай, прощай, со лба сотру воспоминанье».

Напоследок приведу стихотворение Ахмадулиной. То самое, которое упоминает Нагибин.
Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятье службой важной.
Прощай! Все минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри,
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.
Смотрели, как в огонь костра,-
до сна в глазах, до муки дымной,
и созерцание куста
равнялось чтенью книги дивной.
Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.
Прощай! Мы, стало быть, из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.