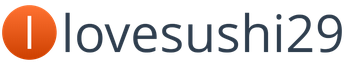Псалтирь. Простирал к Тебе руки мои
Пс. 87 Этот псалом является, пожалуй, самым трагичным из всех плачей Псалтири. Однако он лишен ощущения пессимизма и обреченности, поскольку начинается словами: "Боже спасения моего!" (ст. 2).
87:2 Боже спасения моего! Даже пребывая в глубочайшем отчаянии, псалмопевец не перестает сознавать, что Бог - его надежда и спасение.
днем... и ночью. Иными словами, непрестанно.
87:4 жизнь моя приблизилась к преисподней. В данном случае неясно, какие именно бедствия преследуют псалмопевца. Однако очевидно, что слова эти были бы наиболее уместны в устах человека, стоящего перед лицом близкой смерти.
87:6 между мертвыми брошенный. Псалмопевец пребывает в состоянии крайнего одиночества, возможно, вызванного ощущением оставленности Богом.
которые от руки Твоей отринуты. Т.е. оставлены Богом. Следует помнить, что первоначально Господь не открыл людям всей полноты истины, особенно в отношении того, что касается посмертной судьбы человека. Тогда как в некоторых псалмах находит отражение упование на вечную жизнь, создатели других, в том числе и Пс. 87, явно лишены этого понимания.
87:8 ярость Твоя. Псалмопевец уверен, что его состояние - следствие Божиего гнева, который он сам на себя навлек, и его в первую очередь заботят причины Божией немилости.
87:9 сделал меня отвратительным. Страдания псалмопевца сходны с испытаниями, выпавшими на долю Иова.
87:10 простирал к Тебе руки мои. Простертые к небу руки - обычная для ветхозаветных времен молитвенная поза.
87:11 Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? См. ком. к Пс. 29,10.
87:15 отреваешь душу мою. Т.е. "отнимаешь душу".
87:18 как вода. См. ком. к Пс. 17,5; 68,2.
87:19 Ты удалил от меня друга и искреннего. Ближайшие друзья псалмопевца оставили его, как бы следуя Самому Богу (ст. 9). Данный псалом, один из немногих, завершается на скорбной ноте (см. Введение: Характерные особенности и темы).
– Ну, фантазерка ты, Анюта, какая была, такой и осталась. Когда это было, ну, твоя влюбленность в меня? Почти лет пятьдесят прошло? Да, где-то так, лет пятьдесят, – и он засмеялся. – Ну, какое это имеет отношение к реальной жизни?
Анна Брониславовна посмотрела на него долгим взглядом, вздохнула и тихо сказала:
– Да, ты прав, Левушка. Какое это имеет отношение к реальной жизни?
Он улетел через десять дней – рано, в шесть утра, за окном еще было совсем темно. Заказали такси. Анна Брониславовна, конечно, вызвалась его провожать. Заспанная Милочка растерянно чмокнула его в щеку. В такси ехали молча. Потом Левушка сказал:
– Чудная у тебя Милочка, Аня. Чудная девочка. Спокойная и теплая. Хорошо ты ее, Анюта, воспитала. Родной человек. Мне от детей за всю жизнь столько тепла и внимания не досталось, сколько от твоей девочки за десять дней.
Анна Брониславовна молчала, отвернувшись к окну. За окном вяло просыпалась серая, хмурая Москва.
"Сказать ему. Вот сейчас сказать. Всю правду. Всю. Про мою жизнь. Про Лару. Про Милочку. Сказать все наконец, – подумала она. Лару она не подведет. Лары уже давно нет. Мама ее простит – мамы тоже давно нет. Есть она. Есть он. Есть Милочка. Впереди есть еще жизнь. Кто знает, сколько им отпущено? Она одинока. Всю жизнь. Он один. Никому не нужный. Одинокий, несчастный старик с перспективой на дом престарелых. Прекрасный, сытый американский – но дом престарелых. Все еще можно изменить, если сказать правду. Ведь правда – это всегда хорошо. Так ее учила ее мать. Так она учила своих учеников и свою дочь. И эта правда может изменить ее жизнь. Его жизнь. Их жизнь. Если только хватит сил на эту самую правду. Если хватит сил".
Такси медленно притормозило у здания аэропорта. Левушка занервничал и засуетился. Стали искать нужную стойку. Он без конца вынимал билет и паспорт, проверял застежку у чемодана. Торопился. Анна Брониславовна видела, что он уже совсем не здесь. Он чмокнул ее в щеку и стал торопливо прощаться и благодарить.
– Левушка! – сказала Анна Брониславовна.
Он остановился, замер и посмотрел на нее.
– Левушка! – повторила она.
Он вскинул брови.
– Оставайся! – непослушными губами прошептала она. – Оставайся! Что тебе там?
Он снял очки, растерянно протер их салфеткой, покачал головой и тихо сказал:
Анна Брониславовна махнула рукой. Сейчас надо было сказать одну фразу. Одну-единственную: "Милочка – твоя дочь". И произнести еще несколько слов. И все бы встало на свои места. Лара бы, наверное, сейчас посмеялась над ними обоими.
Он прощально махнул рукой и двинулся вперед, ведя за собой тяжелый чемодан на колесах, в котором лежали подарки внукам.
Анна Брониславовна долго смотрела Левушке вслед, пока он не исчез из ее поля зрения. Вышла на улицу. Застегнула пальто, надела косынку и, посмотрев на небо, раскрыла зонт. Мартовский снег сыпался мокрой, острой крошкой. Она подняла руку и остановила машину. В машине она закрыла глаза и почувствовала, что безумно устала. Отпуск кончился, и завтра будет обычный рабочий день. И все войдет в свою колею – тетради, уроки, родительские собрания, педсоветы. Обычная жизнь. В которой вряд ли что-нибудь можно изменить. Да и нужно ли? Жизнь уже, считай, прошла. У каждого своя. Кто какую выбрал. Добровольно, между прочим. И к чему сетовать? К чему ворошить? Ничего не исправишь. "В общем, живем дальше", – вздохнула Анна Брониславовна. Посмотрела на часы – девять утра. Значит, магазины уже открылись и надо купить к обеду курицу или рыбу и еще овощей.
Она остановила машину у магазина, расплатилась с водителем и вышла на улицу. Небо неожиданно просветлело, и выглянуло неяркое прохладное солнце.
"В конце концов, у меня есть его телефон и адрес, – подумала Анна Брониславовна. – И писем еще никто не отменял. Да и в письме иногда проще сказать то, что невозможно сказать в глаза".
Она улыбнулась и пошла к дому. Обед на сегодня отменяется. Доедим то, что есть. Просто буду валяться на диване и читать книжку. Она поняла, что за эти дни очень и очень устала. Все-таки возраст, ничего не попишешь.
Да, именно так. Валяться и читать книжку. И ждать левушкиного звонка. Он же обязательно позвонит, чтобы рассказать, как долетел. И она обязательно скажет ему правду. Обязательно. Соберется с духом и скажет. Если хватит сил. Пусть он, Левушка, слабый. Но она-то сильная. А кто-то из двоих должен быть обязательно сильнее. Тот, кто берет на себя. Это она знала наверняка.
«Песнь. Псалом» – указывает на музыкально-вокальное исполнение «сынов Кореевых» , «учение Емана Езрахита» указывает на писателя Емана, левита из фамилии Кореев, современника Давида и начальника над хором. Называется он езрахитянином потому, что долгое время жил среди потомков Зары из колена Иудова. – "Учение" – это произведение представляет размышление по поводу переживаемых событий. «На Махалаф» – слово, за утратой его первоначального значения, оставлено без перевода. Предполагают, что этим словом начиналась какая-то народная песнь, а потому надписание указывает характер напева – по образцу песни, начинающейся этим словом.
Данный псалом – самый грустный, безотрадный в Псалтири по той степени скорби и тяжелого чувства, которые изображены здесь писателем. Трудно указать время и повод его написания. Так как писателем был Еман, современник Давида, преданный ему и разделявший с ним его жизненные злоключения, то можно думать, что он написан по поводу какого-то тяжелого бедствия, переживаемого Давидом, может быть – гонения от Авессалома, что и подтверждается содержанием псалма, где Давид изображается оставленным друзьями, им гнушались, он в бедствиях, из которых не видит выхода; все это согласно с положением Давида во времена восстания Авессалома. Псалом полон жалобы на безвыходность положения писателя, на близость гибели от врагов и на сознание своей полной беззащитности.
Услыши мою молитву, Господи, так как я покрыт скорбями и бедствиями, угрожавшими мне смертью (1–7). Ты изливаешь на меня свой гнев: удалил от меня моих друзей; истомил от ожидания Твоей помощи (8–10). Если я умру, то могу ли славить Тебя в шеоле? (11–13). Я постоянно взываю к Тебе, так как Твои бедствия сокрушили меня, я оставлен даже самыми близкими друзьями (14–19).
. Господи, Боже спасения моего! днем вопию и ночью пред Тобою:
«Днем вопию и ночью пред Тобою» – постоянно, неусыпно писатель взывал к Богу о помощи ввиду тяжелого и безвыходного своего положения.
. ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней.
«Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней» – я полон страданий как духовных, так и телесных. Под «душевными» страданиями можно разуметь или внутреннее терзание Давида за свое преступление с Вирсавией, бывшее причиною неурядиц его семейной жизни в лице восставшего Авессалома, или, что вероятнее (так как писателем был Еман, непричастный этому греху), вообще душевное, угнетенное состояние от переживаемых им бедствий. Под «телесными» – внешние, физические бедствия Давида, прежде всего его болезнь.
. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал, как человек без силы,
. между мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты.
«Я сравнялся с нисходящими в могилу» – я, по-видимому, должен разделить судьбу с теми, кто близок к смерти, шеолу. Я беспомощен «между мертвыми брошенный» – безнадежно покинутый, приговоренный к смерти. Я Тобою оставлен «как убитые, лежащие во гробе» , которых Ты оставил и не посещаешь Своей милостью. Пребывание и жизнь в шеоле есть по этому воззрению пребывание вне милости Бога, находящимся там Он не покровительствует и оставляет вне Своего попечения.
. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну.
. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил [меня].
. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них; я заключен, и не могу выйти.
. Око мое истомилось от горести: весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои.
Ты, Господи, присудил меня к смерти, обильно наливаешь на меня свой гнев («ярость... и... волн ы») в многочисленных моих страданиях; сделался я одиноким, оставленным даже друзьями («удалил... знакомых» ). Сношения со мною они считают осквернением («сделал меня отвратительным для них» ), что, вероятно, указывает на какую-то тяжелую болезнь Давида, считавшуюся другими заразительной и гнусной, наподобие проказы.
Вероятно, это та же болезнь, о какой говорил Давид в 37 псалме (), почему можно считать псалом написанным в то же время, т. е. во время начавшегося восстания Авессалома. Я заключен в этих бедствиях и не вижу из них выхода. – «Око мое истомилось от горести» – глаза ослабели от бедствий, страданий или в смысле, что зрение физически притупилось от слез Давида о своем положении, или образно – в том, что его страдания так продолжительны, что его зрение притупилось от ожидания, высматривания помощи от Бога.
. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя?
. или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя – в месте тления?
. разве во мраке позна́ют чудеса Твои, и в земле забвения – правду Твою?
Молитва писателя об освобождении от бедствий принимает здесь иной характер. Если человек умер, то он исчез безвозвратно для земного существования, ушел в тот мир, где Господь уже не творит чудес. Умершего не может исцелить врачебное искусство, чтобы он мог жить и прославлять Бога в шеоле («во мраке.., в земле забвения» – т. е. лишенной физического света и как бы забытой Богом) никто не может знать о совершаемых Богом чудесах и делах Его великого правосудия. Значит, умерший безвременно, не естественной смертью, как того опасается и для себя писатель псалма, не может осуществить цели назначения человека на земле – воспевать дела Господни и благоговейно чтить Его имя.
. Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя.
. Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня?
Сознание того, что Господь не допустит человека умереть, не давши ему исполнить своего назначения, ободряет писателя и дает ему силы снова просить Бога о милости и спрашивать Бога – зачем Ты, Господи, «отреваешь душу мою» – зачем не исполняешь желаний моей души, моей молитвы о Твоей помощи?
. Я несчастен и истаеваю с юности; несу ужасы Твои и изнемогаю.
«Я несчастен и истаеваю с юности» – я с юности страдаю. Это можно понимать в отношении к Давиду в гонения от Саула, когда он был юношей. Эти бедствия не оставляют его и теперь, в переживаемые гонения от Авессалома. Указаниями на степень и глубину своих бедствий писатель и заканчивает псалом.
Этот псалом – четвертый в шестопсалмии. Ночной мрак напоминает ад, сон – смерть. Назначением этого псалма в утреннем богослужении, перед наступлением дня, напоминает человеку о необходимости усилий с его стороны избежать отвержения от Бога, что возможно только при помощи Бога и молитвы к Нему (5, 14), чтобы не подвергнуться вечной ночи, вечной гибели.
МертвецыОко мое истомилось от горести:
весь день я взывал к Тебе, Господи,
простирал к Тебе руки мои. Разве
над мертвыми Ты сотворишь чудо?
Разве мертвые встанут и будут
славить Тебя? или во гробе будет
возвещаема милость Твоя, и истина
Твоя - в месте тления? разве во мраке
познают чудеса Твои, и в земле
забвения - правду Твою?
Пс. (87:11-13)
I
- Квартиру, квартиру проси и денег, денег побольше.
Ума, ума, дурак, проси! Какая ж девка за тебя, безумного, выйдет? Кому ты, дурень такой, нужен?
Какая девка? Ты рожу-то его видела? Да с такой мордой на людях стыдно показаться, а ты про девок… Тут и дурнушка без приворота не засмотрится. Красоты, Егорка, проси, иначе пропадать тебе до конца дней без бабы вот таким как сейчас уродом.
Что ж ты горишь-то? Да разве ж рожа в мужике важна? По мне так в молодости всегда было: пусть и урод последний, но с характером. Двинет кулаком по столу, так что мебель в доме ходуном заходит, рявкнет, так, что стены содрогнуться, да как хватит меня по заднице, я вся и таю… Сила, Егор, это главное, без силы не будет тебе счастья.
Какая сила? Ты глянь – его же в телегу запрягать можно заместо кобылы. Сила… Да его головой стены бы ломать, был бы толк, ума все равно нету. Пусть на деле он и размазня хуже бабы, за деньги - любая пойдет. Пусть будет безобразен, слаб, глуп, но с деньгами. Так что не бойся, Егорка, и проси богатств побольше, чай, и нам от тебя перепадет.
Большой, грузный, неуклюжий, взъерошенный, тридцатилетний, в пузырящихся штанах и тряпичной куртке, похожий на застенчивого бегемота, он шагнул в храм, зацепившись рукавом за дверь. Пахло ладаном, талым воском, молитвой. Со стен смотрели на Егорку древние, красивые и строгие святые. Смотрели вкрадчиво и грустно, с тайной надеждой, будто хотели от него чего-то очень важного, но понимали, что перед ними всего лишь Егорка. Он съежился, согнулся, спрятал руки в рукава и глядел на святых, снизу вверх, выпученными, сумасшедшими глазами. Толстые, кривые губы были приоткрыты, из широких бычьих ноздрей доносилось испуганное сопение, огромная, уродливая голова судорожно поворачивалась, когда Егорка переводил взгляд.
Мать со старухой встали в дверях, опасливо шушукали, сбивчиво крестились, глядели на Егорку с любопытством, ненавистью и насмешкой. Они ждали чуда и было в этом ожидании что-то темное, потешное, русское. «Ой, бабоньки, повезло же вам, - нараспев протянула знакомая повитуха пару дней назад, - не ребенок у вас, а золотце, Божий дар». «Да ты что, Сцилла, с дубу рухнула? – удивились мать со старухой. – Тридцать лет этого изверга терпим, кормим, поим, одеваем, а он только мычит в ответ и ни слова благодарности. Только знай кровушку нашу сосет, кровопийца. Да его же из дому без присмотру не выпустишь – то конфету у дитя отнимет, то девку за живое хватит, то встанет посреди дороги и стоит дурень дурнеем, водители ему сигналят, а он им кулаком в ответ грозит…». «Ой и дуры вы, бабы, ой и дуры, - продолжала Сцилла, покачиваясь на стуле, - да вы поглядите, как он весь у вас светится, когда на солнышко смотрит. А когда с деревьев листочки обрывает или из лужицы пьет? Пусть умом он и небогат, но есть в нем Божия искорка, благостный огонечек внутри. Святой он у вас, вот что». «Э-э, ты, Сцилла, видно съела сегодня чего не того, - переглянулись мать со старухой, - Какой же он святой? Ты на рожу-то его посмотри. Гореть ему в аду веки вечные с такой рожей. А ты говоришь, святой…» «Ничего вы, бабоньки, не понимаете, - возразила Сцилла, - ничего. Разве ж святость в роже заключается? Святой человек он может быть и лицом, и телом мерзок, но зато душой красив. Вот, как ваш Егорка. Смотрю на него и не налюбуюсь: глазки безумны, движенья нескладны, с краешка рта слюна капает… Но сколько в этом всем света и смысла потаенного! Он у вас крещеный хоть?» «Крещеный», - немного подумав, решили мать со старухой. «Вот и славно! Ведите его, бабоньки, в церковь да поскорей, - сказала повитуха, - там ему место. А через него и вам благо будет. Он ведь человек Божий, ему на небесах почет и снисхождение. Чего у Господа Бога нашего Иисуса Христа не попросит, все исполниться. У него же каждое движение – молитва. Да вы только посмотрите!..» Они посмотрели, переглянулись, скривились, подумали и кивнули: чем не молитва?
Робким, заплетающимся шагом, с полуоткрытым ртом Егорка вышел в середину церкви и встал под самым куполом, разглядывая дивные, высокие своды. Из узких, узорчатых окон проникал в полутьму храма густой солнечный свет, плавно ложился на пыльные, мрачные фрески, делая их мягче, добрее, падал на лица, играл с позолотой иконостаса, высекая искры, придавал алтарю величие ночного небосвода. Редкие старушки, пришедшие помолиться в будничный день, разошлись по углам, точно боялись нарушить царящую гармонию, стояли, молчаливые, слабые, изредка крестились. Горели свечи, вяло потрескивая. Егорка сделал еще несколько шагов, взглянул на иконостас, зажмурился, сморщил лицо, выпятил нижнюю губу, забрался глубже в куртку, застыл.
Чего это он там удумал? – насторожилась старуха.
Мать пожала плечами.
Егорка приоткрыл глаз, покосился на икону Богородицы у окна, повернул голову, за ней туловище, уставился на Деву Марию так, словно та занесла над ним нож, замахал руками, будто гнал от себя кого-то, но вдруг выпрямился, вскинул голову, выпятил грудь, зашагал по направлению к иконе бодро и уверенно. Мать со старухой в ужасе следили за отпрыском. Подойдя почти вплотную к образу Егор остановился, тряхнул головой, уставился на прекрасный и худой лик Богородицы, оскалился в безобразной улыбке с редкими корягами желтых зубов.
Ой, мать, что сейчас будет-то, - протянула старуха.
Егор! – громко позвала мама.
Чирик! – отзывался сын, глядя на образ. – Чир-чирик!
Небольшое кладбище, обнесенное каменной оградой, пятиглавый храм с высокой, худенькой колокольней-красавицей, длинные, тянущиеся следом за колокольней сосны, березы, тесно прижавшиеся друг к другу могилки, ухоженные, заброшенные, малинник с крупными, кровавыми ягодами, сочные пучки земляники, иссиня-черные шарики смородины, изумрудные сабли гигантской осоки… Все здесь шептало о тихой и вечной жизни.
Егорка стал часто наведываться в это место. Приходил робкий, растерянный, садился на продолговатый желтый валун рядом с храмом, смотрел часами на золоченые капли куполов, озадаченно выпятив и без того выдающуюся нижнюю губу. Потом поднимался и брел в глубину кладбища, без особенного интереса разглядывал надгробия, кресты, останавливался рядом с пустыми, поросшими темным бурьяном могилами, осторожно, крадучись обходил по кругу, не сводя с них безумных глаз и вдруг срывался, запрыгивал на могильный холм, погружаясь по щиколотки в землю, выпрямлялся, разводил руки в стороны и стоял так подолгу, изображая крест.
Да гнать его в шею, этого кощунника, – цедили одни прихожане, но подойти к сумасшедшему исполину боялись.
Тише, нехристи, молчите, - шипели другие, - он же юродивый!
Будь он юродивый, могил бы не топтал и вид бы имел богообразный, как у батюшки нашего, - отвечали первые. – Вы на икону блаженного Сименона гляньте – в рясе, в бороде, глаза умные, лицо замученное, - все, как у людей! Сразу видно – святой человек, старец. А этот Егор ваш – что? Не человек, а черт рогатый!
Да где же это видано, чтобы юродивый в рясе ходил? Или, чтоб вел себя как человек обычный? На то он и юродивый, чтобы безумным притворяться, нам с вами наши грехи показывая и пороки наши обличая. Вон взгляните на него – стоит, в носу ковыряет. Вы думаете – безумен он? Ан нет. Это он вам говорит, грешники, мол, уподобьтесь дитю чистому и непорочному…
Кладбищенские вороны, мрачные, тяжелые птицы, облепившие тонкие ветви берез, кресты и надгробия, недовольно глазели на Егорку, когда тот брел между могил.
У-у… - грозил Егорка и тянулся кулаком к птицам.
Кар, - отвечали вороны.
У-у-у-у! - выходил из себя Егорка.
Кар, кар, кар, - дразнились вороны.
Егор подбирал несколько камешков и швырял в птиц. Вороны хлопали крыльями, точно аплодируя, и насмешливо глядели на него черными жемчужинами глаз. Видя это, Егор срывал с себя куртку и бежал к воронам. Птицы настораживались. Вращая курткой так, будто это была палица, Егорка подбегал к надгробиям и в несколько взмахов прогонял оттуда ворон, подпрыгивая, бил по ветвям, лупил по крестам с размаху, пугая оставшихся птиц. Вороны взлетали, рассерженно каркая, садились на крышу и купола храма, подбирали крылья, расправляли грудь, сидели так, надменные, гордые, с презрением глядя на узурпатора. Егорка победно плевал в сторону птиц и важно прохаживался по захваченным землям.
Да вы посмотрите, он же на церковь харкает, еретик! – возмущались одни прихожане.
И то верно, харкает, - соглашались другие, - видать не все хорошо в нашей церкви…
Это что же в ней может быть нехорошего? – спрашивали первые.
А то вы, будто бы, про батюшку нашего не знаете? – переходили на шепот вторые.
Знать ничего про батюшку нашего не знаем, - обманывали первые.
А то, как он пьяный намедни с полуголой девицей в обнимку по улицам слонялся, вы разве не видели?
Видели, - краснели первые, - ну так что с того? Мужчина он видный, холостой… Да и девица недурна была – кто тут устоит?
А то, как он на пасхальной литургии «вечное лето» затянул, вы что, не помните?
Помним, все помним. И все прощаем: с кем не случается?
И даже то вы прощаете, что, как-то пришедши во храм в хмельном угаре и выпив весь церковный кагор, он разбавленным самогоном народ причащал?
И это прощаем. Ничто не должно мешать свершению святого причастия. Да и самогон, надо сказать, был на уровне… Очень даже на уровне… Тише! Батюшка идет.